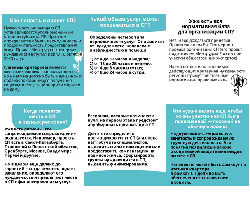06.2003 Привидение с синдромом Дауна, или Зачем нужны инвалидыАвтор: Елена Вяхякуопус Разум каждого из нас отличается от всех других точно так же, как все наши лица не похожи друг на друга. Вавилонский Талмуд Мой брат с детства был романтиком. Он перечитывал Ремарка и играл на гитаре Моцарта. Он мечтал о пергаментах с выцветшими буквами и истертых черепках. Он хотел стать археологом, но, уступив моим и родительским уговорам, пошел учиться в медицинский институт. Весь первый курс брат содрогался от мысли, что скоро его заставят резать мертвецов. Поэтому весной, чтобы покончить с этими страхами и предрассудками, он начал работать в институтском морге. Студенты подрабатывали там ночами — готовили учебные препараты из останков одиноких старушек и безымянных бродяг. Брат так рассказывал мне о первом вечере на новой работе: — Там был стол с желобами по краям. На нем лежало тело, разрезанное вдоль, и я заглянул внутрь. Я увидел, что это не могло быть человеком. Это была машина. Сложная, но всего лишь машина. Где-то была душа, которая ушла. Мой брат стал хорошим врачом. Его кардиобригада «скорой помощи» спасла жизни многих людей. Бывало и так, что он приходил домой мрачный, садился на кухне, наливал себе стакан чая и стакан водки. Он никогда не говорил: пациент умер. Только: ушел. Для брата человек оставался собой, даже не имея своего тела. В то время слова его звучали для меня странно. В университете я научилась называть душу психикой, психологию считать наукой и была уверена, что есть вещи, которые ученые не имеют права делать, как бы им этого ни хотелось. Говорить о душе без тела было так же невозможно, как беседовать с пациентами на религиозные темы или вступать с ними в интимные отношения. Я работала тогда в министерстве торговли, изучала влияние особенностей коллектива магазина на нервные срывы у продавцов. Полем исследований была валютная «Березка» на Ростовской набережной. Продавцы по очереди заходили в кабинет директора, где я, восседая в директорском кресле, проводила научный опрос, то есть спрашивала их: «Не мучают ли вас перед сном необоснованные страхи?» или «Были ли у вас душевные травмы?» Продавцы, оглядываясь и понижая голос до шепота, признавались, что душевные травмы они получают еженедельно от работников госбезопасности, во время шмонов с раздеваниями на предмет выявления валютных ценностей, и что от этого они действительно плохо спят. На другие душевные трудности они никогда не жаловались. Моя жизнь в Москве в годы цветения советской империи не давала особых поводов размышлять о психофизической проблеме. Здоровье и молодость у меня были свои, все остальное я легко получала через министерские связи и отца — партийного работника. Свое тело я любила и полностью себя с ним отождествляла. Я говорила: главное — ухаживать за собой. Если женщина плохо выглядит, кого заинтересует ее душа? Мне было жаль девушек, у которых не было нежной кожи и стройной талии, как у меня. Когда кому-нибудь из моих подруг изменял муж, я советовала ей похудеть или поменять прическу. Если кто-то из них был одинок, я думала про себя: «Конечно… У нее же маленькие глаза и большие ноги…» Тело казалось мне зеркалом души. Знакомясь с людьми, я решала: «Твердый подбородок и высокий лоб — значит умный и сильный» или «С грязными ногтями нельзя быть порядочным человеком». Дорогой, добротный реквизит — одежда, машина, квартира — делали человека красивее и умнее в моих глазах. Так же рассуждали и мои друзья. Помню, как изменился для всех муж моей тетушки, внезапно разбогатев в начале перестройки. Маленький, хромой и толстогубый, он всегда был под каблуком жены, храня ей сорок лет верность и благодарность за то, что она, москвичка, дочь профессора, согласилась выйти за бедного инженера из провинции. Заработав первый миллион долларов, дядюшка купил себе длинное черное пальто, красную спортивную машину и заменил старые золотые зубы на белые. Тетушка, запивая коньяк валерьянкой, говорила: «Были бы только шлюхи, я бы простила, положение обязывает, сауны их и приемы, но это умные, деловые женщины — влюбляются в него, проходу не дают. Я одной говорю: совесть-то у тебя есть, ты ведь в дочери ему годишься, а она: мы созданы друг для друга, особенно в постели… Где они все раньше были, когда он сто сорок в месяц получал!» Раскладывать людей по ящичкам и полочкам национальностей, должностей, способностей в то время мне было легко. Я умела правильно вести себя, я знала, как достойно выглядеть, как прилично разговаривать. Все уборщицы казались мне грубоватыми, все цыгане — беззаботными, а балерины были утонченными, даже когда икали с перепоя. Я дружила с обеспеченными, здоровыми людьми, и рассказы брата, приходившего домой в измазанном кровью халате, об умершем от истощения одиноком старике, о перерезавшем вене наркомане, о родившемся в машине «скорой» недоношенном ребенке, которого он вез в больницу на своей груди, под рубашкой, — эти рассказы казались мне историями из приключенческих книжек. Брат много работал, по три суточных дежурства в неделю, и мы редко виделись: после работы я шла в парикмахерскую или в косметический салон, потом в гости, в театр, в ресторан. Мир кружился, не оставляя времени на раздумья. Однажды зимним вечером я осталась дома. Я сидела на диване у окна и читала. Большое окно нашей гостиной выходило в парк, из него были видны ряды голубых елок и сугробы, скрывшие кусты шиповника. Брат пришел рано, уставший и молчаливый. Он сел напротив меня, лицом к окну, за которым быстро темнело. Некоторое время мы молчали. Подняв голову, я не сразу поняла, что лицо его было бледным не только от зеленоватого света настольной лампы. Брат пристально смотрел на что-то за моей спиной. — Не поворачивайся, — прошептал он, — не смотри туда… Мгновение я не шевелилась, потом обернулась. За окном была темнота, но в самом низу мягко уплывало что-то серовато-белое. Я увидела это лишь на секунду. Большая птица, упавший с крыши снег? — Что это было? Брат молчал. Щеки его медленно розовели. Наконец он как-то криво усмехнулся и встал: — Завтра расскажу. А то ты не сможешь спать, — и ушел к себе. Ночью мне приснилось, что я лежу на своей кровати, луна светит в окно, а в углу, в кресле, сидит странный маленький человек, то ли ребенок, то ли старик. Низкий лоб его очень бледен, нос вдавлен, узкие монгольские глаза смотрят прямо на меня. «Кто ты?» — спрашиваю я. Человек улыбается детской ласковой улыбкой… и тут я проснулась. Часы в лунном свете показывали три часа ночи. На кресле лежало мое платье. Я долго не могла заснуть. Утром за завтраком я спросила брата, что он увидел в окне. Он нехотя ответил: — Вчера дауненка одного из интерната привезли. Лет шестидесяти, редко бывает, чтобы они доживали до такого возраста. Стал он уходить, откачивал — не получилось, сестра говорит: чего вы расстраиваетесь, он же старый, еще и урод. Положил его на стол, тут ребята зашли, принесли водки. Выпили, а когда пошел домой, похлопал его по ноге, говорю: заходи, браток, когда стемнеет. Зачем сказал, сам не знаю. Пошутил. Ну, и показалось в окне… Я не спросила, что такое «дауненок», не рассказала брату о своем сне и постаралась как можно скорее забыть эту историю, вызвавшую щемящее и тревожное чувство соприкосновения с тем, чего не могло быть. Жизнь продолжалась, на все предлагая готовые ответы, которые лишь изредка вызывали сомнения. Сомнения я не любила, так же как головную боль и бессонницу, и старалась быстрее от них избавиться, чтобы не менять ясной картины мира, в котором большинство людей были правильными и нормальными — как я. Я переехала жить за границу, и все изменилось. Эмиграция, мельница привычек, перемалывает очевидности в вопросы. Чужая сторона прибавляет ума, хотя и не сразу. Сначала я заблудилась в лесу чужих обычаев, потом я потеряла там себя. Исчезла под ярлыком «русская женщина», который наклеили на меня, как этикетку на банку с вареньем. Как только я открывала рот и начинала говорить, выражение лиц окружающих менялось. Они настораживались, и между нами возникал порог недоверия. В иностранце есть что-то от пришельца с другой планеты. Мою планету в этой стране не любили. Все, кому было не лень, делали мне замечания, поправляли меня и поучали. Продавщицы помогали выбирать одежду: «У нас сейчас модно вот это», медсестры объясняли, как кормить ребенка: «У нас нельзя давать детям сахар». Новые подруги повторяли: «Порядочные женщины не надевают столько украшений. Не смейся так громко — решат, что ты дурочка. Не бери женщин под руку — подумают, что ты их хочешь. И подстриги, наконец, волосы — нормальный человек не может ходить с такой копной на голове». Они усмехались, когда я заставляла простывшего ребенка пить чай с малиной, и ужасались, когда я ставила ему горчичники. Своим детям при ангине они давали мороженое, «чтобы заморозить микробы». И хотя дети выздоравливали с одинаковой скоростью, их методы были народной мудростью, а мои — варварскими предрассудками. У меня были только обязанности ученицы, а у них — все права учителей. Я удивлялась, что никто из моих новых знакомых не слышал о Пушкине, но они пожимали плечами: «Зачем нам знать ваших местных авторов?..» Их мир казался им совершенным, и никаких изменений вносить в него они не хотели. — Тебе нужно как можно быстрее адаптироваться: приспособиться к нашему обществу, — говорили мне. — Учи язык, законы, читай наши книги и газеты. Не можешь устроиться на работу — запишись в кружок. Любителей природы или рисования по фарфору, например. — Я взрослый человек. Почему только я должна изменяться? Почему вы не можете, хотя бы немного, приспособиться ко мне? — Ну, дорогая, это нескромно. Ты приехала к нам, а не наоборот. Люди — зеркала, в которых видишь себя. Со мной говорили поучающим тоном, смотрели на меня с презрением, и я видела себя смешной и глупой. Еще хуже было, когда меня просто не замечали. Мои попытки сблизиться раздражали, мои чувства утомляли. Большинство людей вокруг были пустыми зеркалами, я в них никак не отражалась. Быть невидимкой, быть привидением страшнее, чем быть дурочкой. Не видя себя, можно по ошибке на себя наступить. Не узнавая себя, подумать: «Кто этот странный незнакомый человек, у которого сердце болит, как зуб, — не дать ли ему выпить чего-нибудь успокаивающего, таблеток тридцать-сорок?» Постепенно я перестала говорить с людьми. Я уходила в лес и разговаривала с деревьями. Высокие сосны слушали меня и качали вершинами. Однажды утром раздался телефонный звонок. Мне предлагали место психолога в «институции». К тому времени я разослала сотню своих анкет по всей стране — без ответа, и уже не надеялась получить работу. Что такое «институция», я не знала, но спросить не решилась. Чтобы скрыть свой акцент и грамматические ошибки, я старалась говорить поменьше, не задавать вопросов и отвечать односложно. Перед интервью я долго одевалась и причесывалась. Мне очень хотелось понравиться. В автобусе я думала: «А если директор — женщина? Зачем я надела такую короткую юбку?» Мы проехали весь город и свернули на мягкую лесную дорогу. На последней остановке добродушный толстощекий шофер ткнул пальцем в окно и сказал: «Тебе туда. Русская? Довольна, что у нас живешь по-человечески? У вас там, говорят, и колбасы нет». Низкие коричневый домики были почти незаметны среди деревьев. Ничьи голоса не нарушали лесной тишины. Я пошла по тропинке к первому домику и постучала в дверь. Через минуту раздались шарканье и кашель. Я ждала, но дверь не открывалась, и я снова постучала. В ответ кто-то стукнул несколько раз в дверь с другой стороны. Я осторожно нажала на дверную ручку. Дверь была закрыта на ключ. С той стороны тоже подергали за ручку, и послышалось бормотание. Повернувшись, я увидела бредущего по тропинке человека. Лицо его скрывал капюшон куртки. — Скажите, как мне найти директора? Человек вздрогнул и неуклюже побежал прочь. Мне захотелось уехать домой. Наверное, это больница, где держат опасных сумасшедших. Тут дверь домика открылась, и заспанная медсестра выглянула наружу. Через пять минут я сидела в кабинете директора. Он оказался молодым красивым мужчиной. Благожелательно глядя на мою юбку, он объяснил, что я попала в заведение для умственно отсталых людей. Они живут здесь постоянно, с рождения до смерти. Моя работа будет заключаться в их обследовании и реабилитации. Умею ли я это делать? Я хотела спросить, зачем их обследовать, если они отсюда все равно не выйдут, и как можно реабилитировать — возвратить ум, если его никогда не было. Но вспомнила про акцент и кивнула. Директор нажал на звонок, и в кабинет вошел сгорбленный, моргающий человечек. Я подумала, что это один из проживающих. Директор сказал: — Господин Кари, мой заместитель, покажет вам интернат. Посмотрите на наш контингент. Если он вас устроит, то вы нас тем более. Человечек, поджав губы, повел меня к одному из домиков и открыл дверь ключом, висевшим у него на шее на длинной веревке. Через пустую прихожую мы вошли в комнату, где стояли высокие металлические кровати. На этих кроватях лежали… люди? Они не выглядели людьми. Один из них напоминал кузнечика: прутики ног и рук, выпученные глаза. У другого глаз был посередине лба, а рта не было видно совсем. Раздутые головы, искривленные тела. Кто-то лежал молча, кто-то копошился, издавая рокотание. Воздух вокруг сгустился в серебряную мозаику близкого обморока. Стульев в комнате не было, и я села на кровать, рядом с инопланетным существом, уставившим на меня ромбовидные, как у кошки, зрачки. Из носа его торчала трубка. — Что это? — спросила я. — Это Мартин фон Шлензка, — сказал господин Кари. — У него редкая хромосомная аномалия. Вам дурно? — Не найдется ли у вас чего-нибудь выпить? Водки, например? Господин Кари возвел глаза, вздохнул и отвернулся. Я смотрела вокруг и думала: так вот что такое человек! Вот каково его истинное обличье, когда нет приличного реквизита из нормальных мышц, нервов, костей! И я буду такая же, как они, если снять с меня мою внешность — раздробить мои кости и расплющить мозги. В этих кусках плоти, в этих бредовых конструкциях безумной природы может ли обитать душа? Мир показался бессмысленным и скучным, и сильнее захотелось чего-нибудь выпить. Существо на кровати тихонько сопело в свою трубку, не отводя от меня сиреневых кошачьих глаз. — Кто ты? — спросила я. — Зачем ты здесь? Если я выдерну сейчас эти трубки, мир погаснет для тебя, а ты и не заметишь. Ты даже не знаешь, что живешь… Серая кожа на его лице выглядела сухой и гладкой, как голубиное крыло. Я протянула руку и осторожно погладила худую щеку, потом мягкие кольца волос на голове. Мартин фон Шлензка булькнул и улыбнулся. На щеках его показались ямочки, а глаза посветлели, будто в них упал луч солнца. Что-то легкое и живое замерцало, зашелестело в изувеченном скафандре его тела. Как пламя свечи, как порыв ветра… — Ты, кажется, невероятно одинок, дружок, — сказала я ему, — лежишь здесь всю жизнь, а ведь другой-то у тебя не будет. Тебя, как и меня, пустили в этот мир только на один-единственный раз. В этом мы с тобой, дружок, похожи. И уйдем мы в одну темноту, о которой знаем одинаково много, а именно — ничего. Мартин фон Шлензка улыбался и булькал, глаза его сияли сиреневым светом, а иссохшие пальцы мерно дергали прозрачные трубки, словно ему хотелось сказать: «Не так уж там темно — суета этого мира закрыла от тебя свет планеты, с которой мы спустились и на которую поднимемся снова». Господин Кари прервал нашу философскую беседу, надо было идти дальше. У крыльца следующего домика стоял ряд одинаковых пар резиновых сапог. В гостиной с диваном и телевизором на низком столе было разложено лото с картинками, изображающими зайчиков, курочек и петушков. Контингент здесь был другим. Нас окружили молодые ребята и девушки, коротко стриженные, одетые в домашние брюки и кофты с отвисшими рукавами. Они смотрели на нас с любопытством и ожиданием. — Это Елена, — сказал господин Кари и скользнул куда-то в боковую дверь. — У тебя красивые волосы, — кто-то погладил меня по голове. — И сережки, — меня дернули за ухо. — Елена, как твои дела? — спросила толстенькая девица, улыбавшаяся веселее всех. Узкие глазки и торчащий из пухлых щек носик с низкой переносицей делали ее похожей на хитрого снеговика. — Так себе, — сказала я. — Какие у тебя грустные глаза, — она вытянула трубочкой рот и покачала головой. — Почему, почему, почему? — затараторили несколько ребят сразу. Они придвинулись ко мне совсем близко, и кто-то взял меня под руку. — Потому что меня никто не любит, — сказала я. Воздух вокруг снова засеребрился, на этот раз от неожиданно выступивших слез. Никто никогда не спрашивал раньше, почему у меня грустные глаза. А последний год мне вообще не задавали вопросов, кроме: «Как тебе нравится у нас в стране?» — А мама? — спросил хмурый большеголовый парень. — Моя мама далеко. — А муж? — У меня нет мужа. Наступила тишина. Они смотрели на меня и думали, и было почти слышно, как мысли перекатываются в их стриженых головах. — Елена, ты умеешь делать карельские пирожки? — наконец спросила толстенькая девица, снова начиная улыбаться. — Нет… — Вот! — она подняла палец. — Я тебя научу, и тебя сразу все полюбят. Наш воспитатель говорит: «Марта, ты делаешь такие карельские пирожки, что за них любой мужик женится!» И она захохотала, а за ней засмеялись все остальные, и я тоже. — А пока я буду тебя любить, — сказала Марта. — Я буду твоим другом, если хочешь. — И я, — сказал хмурый парень. — И мы, — сказали остальные, и кто-то опять погладил меня по голове и дернул за ухо… В кабинете господина Кари я заполнила необходимые для приема на работу анкеты. Он сидел напротив и моргал. — Скажите, почему вы называете этих людей отсталыми? От чего они отстали? — спросила я его. Господин Кари шмыгнул носом: — От нормы. У них сниженный интеллект. — Я помню, в одном учебнике интеллектом называли скорость мысли. В другом — умение делать выводы, в третьем — способность сравнивать. Сколько книг, столько толкований ума. Как можно знать, что нормально, если все меряют разные вещи? Господин Кари заморгал чаще: — Нормы определены министерством. Что такое интеллект, записано в методических правилах: это умение правильно себя вести, приспосабливаться к окружающей среде. — Но тогда лучшие приспособленцы к окружению — политики, бизнесмены, — наверное, нас с вами могут считать умственно отсталыми людьми? Потому что мы не добились в жизни того же, чего они… В дверь кабинета постучали, и господин Кари поспешил ее открыть. На пороге стоял горбатый карлик с лицом усталого ребенка и голым, кривым черепом, над ним возвышалась пожилая блондинка в розовом платье. Господин Кари горестно вздохнул и сделал движение закрыть дверь, но было поздно. Горбун вбежал в кабинет и немедленно взобрался на стул, подобрав под себя ножки. Исподлобья взглянув на меня, он пронзительно закричал: — Знаете, что думают женщины, когда видят меня первый раз? Они думают, что у меня и … подвешен сбоку! — он удовлетворенно улыбнулся, видя, что я не нахожу слов для ответа, и продолжал: — В этом есть основное преимущество инвалидов. От нас заранее многого не ждут. Так что мы всегда можем устроить приятный сюрприз! — он подмигнул мне и повернулся к господину Кари: — Я вам скажу, в чем нуждаются инвалиды больше всего. Больше всего нам нужны деньги! Дайте инвалидам деньги и катитесь со своей интеграцией — мы и сами устроимся! Господин Кари возмущенно шмыгнул носом и открыл рот, намереваясь что-то сказать, но его перебила дама: — Мир погряз в разврате и скуке. Если бы все люди на земле были умственно отсталыми, не было бы войн. Умственно отсталые люди прекрасны. Они добрее, мудрее и чище нас! Господин Кари проскрипел: — Это секретарь родительской ассоциации «Порог» Сильвия Кирси и профессор Вилхофф из университета. А это новый психолог Елена. Она из России. Профессор спрыгнул со стула и протянул мне свою ручку. — Очень рад. Где вы раньше работали с инвалидами? — Нигде и никогда, — сказала я, решив, что врать больше не стоит. Контракт мой был уже подписан. — Прелестно! Не замутненный лишним опытом ум в сочетании с акцентом помогут вам быть здесь как дома. Тут все говорят с трудом, — и профессор захохотал. Дама рассматривала меня немигающими зелеными глазами сквозь круглые очки: — Вам нужно прийти к нам на вечер. Хотя специалисты никогда не смогут понять нас и наши страдания. — Почему вы страдаете, если ваши дети прекраснее и добрее всех? — спросила я. Профессор, хихикая, ткнул меня пальцем в бок. Выщипанные брови госпожи Кирси поднялись, а подбородок скорбно опустился: — Наши дети живут недостойной жизнью. Общество отторгло их. Моя дочь Марта в интернате уже десять лет. — Почему вы не возьмете ее домой? — У меня нет возможности сидеть с ней дома. Я веду большую общественную работу. Государство обязано заботиться о наших детях. — Нам пора, — заявил профессор. — Через пять минут в главном зале моя лекция «Адаптация как экспроприация индивидуальности». Вам, крошка, будет полезно меня послушать. Темнело, когда я вышла из интерната к автобусной остановке. На севере красивая осень: все затихает, золотые деревья стоят неподвижно, как в старой сказке про заколдованный лес. У дороги суетились два юных образца контингента: собирали шишки и бросали их в лужи, разбивая тонкий лед. Под рябиной с медными листьями на скамеечке сидел маленький человек, то ли ребенок, то ли старик. Лицо его показалось мне знакомым: бледный низкий лоб, вытянутые к вискам узкие глаза. — Ты живешь в интернате? — спросила я. — Семьдесят лет! — поспешно ответил он. — Скажи, вот ты уже пожилой человек… Не обижайся, что я это спрошу… Ты понимаешь, что ты другой? Не такой, как все? Что ты умственно отсталый, неразвитый, странный? — Все другие, — ответил старик и засмеялся. — Нет одинаковых. Одни идут медленно, другие быстро. Одни любят снег, другие огонь. Бог любит всех. — Ты веришь в Бога? — Я Его знаю. Он меня создал. Сотворил по образу и подобию Своему. Я, как Он, — один, единственный, ни на кого не похожий. Другого нет. И старик улыбнулся ласковой детской улыбкой. Вечером я рассказывала о первом дне в интернате моему маленькому сыну. Он сидел на полу, среди машинок и солдатиков, с важным видом держа леденец, как сигарету, в углу рта. Черный котенок спал, пригревшись, у его вязаных башмачков. — Сегодня я встретила людей, которые надо мной не смеялись. Они обрадовались мне. Они не заметили моего акцента. Сегодня я первый раз забыла, что мы на чужбине… А ты что любишь больше: снег или огонь? — Я люблю все! — сказал он и стал заталкивать котенка в паровоз. *** Отсталый, больной, неполноценный… Кто он, этот человек-невидимка, замечаемый нами лишь по контуру обсыпавших его листов медицинских справок и заключений комиссий? «Он болен, — говорит врач, — и нуждается в лечении». «У него ограниченные возможности, — говорит чиновник, — ему нужны пособия, особые центры и особые школы». «У него нарушение развития, — говорит психолог, — его нужно реабилитировать, исправить, научить правильно разговаривать». «Он несчастен, — качает головой добрый прохожий, — он нуждается в жалости». Нормальным людям трудно усомниться в своей правоте: ведь их большинство. Никто не говорит: инвалид нужен нам, нашему обществу. Никто не думает: не мы ли должны исправиться и реабилитироваться, чтобы увидеть человека-невидимку? Нам не приходит в голову самим поучиться разговаривать и слушать. Инвалид с умственной отсталостью — для нас вечный ребенок, обуза, объект попечения. Государство дает ему пенсию, которой не хватило бы на прокорм большой собаки и которая считается достаточной, чтобы кормиться уме вместе с матерью. Мать в четырех случаях из пяти — мать-одиночка, не может зарабатывать деньги, вынужденная сидеть дома и ухаживать за своим сначала маленьким, а потом взрослым ребенком. На его пенсию она должна не только заплатить за квартиру и купить им обоим еды, но и достать лекарства, специальные приспособления и одежду. В последнее время об инвалидах стали больше говорить по телевидению и в газетах. Появились «центры», даже первые мастерские для взрослых людей с умственной отсталостью. Особенно хорошо пошло дело с «творческой реабилитацией». Приезжая в «центр», чиновники умиляются, глядя на раскрашенные яички и сплетенные коробочки. «Мы и на новогоднюю елку теперь пускаем таких детей вместе с нормальными, — с гордостью говорят они, — и в музей они ходят». На недавнем фестивале для инвалидов в Москве сердобольный англичанин вызвал гром аплодисментов заявлением, что инвалида деньги не нужны, нужно только доброе отношение окружающих. «Положите досочки у входа в магазин, инвалид въедет туда на коляске, и проблемы решены», — сказал он. Въехать по досочкам, конечно, приятно, в магазинах колясочники и правда не бывают, но что они там на свою пенсию купят? Разве что посмотрят на витрины, как в музее. «Сейчас всем трудно, — говорят инвалиду, — а мы для тебя уже столько сделали! В летний лагерь ездишь? Ах, там одни инвалиды, и ты устал от одних и тех же разговоров, одних и тех же лиц? Но, помилуй, ты же человек с ограниченными возможностями, а это значит, что у тебя нет возможностей жить, как все. Вот тебе лекарства, учебники и тренажеры. Вот шоколадки, спонсоры прислали, и игрушки. Занимайся, лечись, исправляйся. Когда станешь умнее и здоровее, мы дадим тебе все то, что есть у нас. А пока поживи в стороне, походи в особый клуб, в особый центр, подготовься к жизни. Начнешь жить, когда будешь готов. Что, тебе трудно в ненормальных условиях научиться вести себя нормально? Тебе трудно резать настоящий хлеб, хотя тебя год учили, как резать пластмассовый муляж буханки? Не умеешь ходить по щербатому тротуару, хотя пять лет тебя тренировали на беговой дорожке? Придется пореабилитироваться еще годков пятнадцать. А мы тебе еще лекарств дадим, построим еще один центр, еще один монумент нашей доброты и заботы». Человека всю жизнь готовят к чему-то, что никогда не осуществится. А он и в самом деле не умеет говорить так, как все. Но это не значит, что ему нечего сказать. Прислушайтесь, снимите синие очки гордости — и в зеркале его души вы увидите свою неповторимую, особую и совершенно человеческую душу. Вы услышите, как он говорит: «Нет трагедии в наших болезнях и травмах. Не надо нас реабилитировать и готовить к жизни — дайте нам жить. Мы хотим жить сегодня». Как живут инвалиды за границей? В последние годы их жизнь в европейских странах очень изменилась. Для инвалидов стали создаваться такие условия жизни, при которых они могут не только получать помощь, но и нести ответственность, иметь обязанности, применять свои, пусть самые небольшие способности. Законами было подтверждено их право самим решать свои дела и жить нормальной жизнью вместе со всеми. Нормальное жизненное устройство — возможность жить в человеческих условиях, а не в интернатах, возможность работать и общаться с друзьями, получать достаточную пенсию и практическую поддержку — было законодательно обеспечено государством. За последние годы два главных изменения произошли в европейской социальной политике: большие интернаты были уменьшены или закрыты, а ответственность за попечение инвалидов перешла от государства к местным муниципальным властям. Большинство чиновников согласились с тем, что коллективная форма жизни в интернате, когда у человека нет ничего своего ни в душевном, ни в материальном смысле, приводит к разрушению личности. Они долго сомневались, смогут ли их тяжелые подопечные жить самостоятельно, без постоянного надзора и контроля. Проблем было много. Воспитатели из интернатов переходили на работу в новые маленькие дома и общежития — и приносили с собой старые методы муштры и коллективизма. Самым трудным для персонала было понять: нет такого народа — «инвалиды», «умственно отсталые», «люди с ограниченными возможностями». Нет и никогда не было, кроме как в учебниках, циркулярах и историях болезней. Самым трудным было увидеть по отдельности всех этих разных людей, с разными особенностями души и тела, и признать их право и желание жить, как все. Формы жизненного устройства были изобретены всевозможные — от домов на 8-10 человек с полной дневной и ночной поддержкой до отдельных квартир, где люди живут практически самостоятельно. Дома покупались «фондами» или «обществами» проживания, а муниципалитеты организовали в них попечение, реабилитацию и оплату персонала. Распространенной формой стали семейные дома, когда персонал живет там же со своей семьей. Обе эти формы проживания оказались более успешными, чем организация общежитий, похожих на маленькие интернаты со всеми их старыми проблемами. Самый дорогой, но очень успешный способ устройства, когда один или двое людей с нарушениями развития живут в своей квартире и за ними ухаживает один постоянный социальный работник. Уход из интерната раскрыл во многих людях новые способности, например, те, кто ни разу в жизни не вскипятил себе даже чаю, стали готовить еду и стирать белье. В Швеции есть взрослый человек, который заговорил впервые в жизни после перемещения. Во всяком случае, нет таких, которые хотели бы обратно в интернат. Что касается детей, то в Скандинавии родители больше не могут даже представить себе, что их ребенок окажется в интернате. Эта вероятность для детей исключена. Люди, освобожденные из интернатов, живут теперь нормальной жизнью: они видят вокруг то же, что и другие, ходят в те же магазины, могут пригласить гостей… Недавно в одном обычном шведском доме на собрании домкома умственно отсталый человек был избран ответственным за порядок — и хорошо справляется со своей общественной работой. Перемещение из интерната или родительского дома — это смена всего образа жизни. Человек получает возможность учиться, работать, совершенно по-другому строить каждый свой день. Редко кто верил вначале в необходимость и возможность изменения положения инвалидов в обществе. Их попытки сказать свое слово вызывали раздражение и неприязнь. В странах, где система попечения инвалидов устроена на высоком уровне, желание ее изменить воспринималось как разрушение достигнутого, неблагодарность к тому, что сделано на благо инвалидов. Во всех странах расформирование интернатов произошло только по воле и новым законам государства. Без нового законодательства ничего не было бы сделано. Одним из важных изменений в законе было признание права инвалида самому решать, какая реабилитация и какие виды помощи ему нужны. Деньги, которые раньше государство платило специалистам, в большей части перешли в карман инвалидов, которые стали сами выбирать и нанимать себе нужных помощников, тренеров, терапевтов. Шума было много: как же так, да что он понимает, я, специалист, лучше знаю, что ему надо. Но представим, что нам перестали бы платить зарплату. А вместо этого государство делило бы ее между участковым врачом, стоматологом и окулистом. А они посылали бы нам повестки: будьте любезны такого-то числа явиться на лечение зуба. Зуб пока не болит? Не может быть, по плану он уже должен был у вас заболеть. Нам лучше знать, что у вас болит: мы же специалисты! Жизнь инвалидов в Европе сейчас легче и достойнее, чем жизнь инвалидов в России. Полезно изучить, как и почему так получилось. Потому что у них больше денег? Гуманнее законы? Добрее люди? Но только в 60-70-е годы в некоторых европейских странах был отменен закон о стерилизации инвалидов с нарушениями психического развития. Строились большие интернаты, и европейские ученые доказывали их пользу и гуманность. Изменения, произошедшие за последние годы, во многом есть результат борьбы негосударственных родительских обществ, самих инвалидов за свои права. Теуво Тайпале, финн с «умственной отсталостью», в книге «Хорошая жизнь — мы сами» (1999) рассказывает об этом так: «Когда родились мы, родителям нашим многого не обещали. Врачи хотели отправить нас в интернаты, потому что мы никогда не научимся читать и считать. Многого не обещали, родители ничего и не ждали. Никто не помог им растить нас. Любовью своей родители растили нас и вырастили взрослыми детьми. Тот же круг — интернат. Нас называли «подопечными». Мерзкое это слово ввинтилось в мозг, и я сам так называю тех, кто живет в интернате. Жизнь в интернате была огорожена со всех сторон. О теле нашем заботились, про душу забыли. Вокруг всегда были одни и те же люди. Инвалиды и Персонал. День за днем. Редко приходили родные. Друзья не приходили никогда. Подумайте: в своем доме, доме, где мы жили, мы не могли ходить, куда хотели: двери закрыты, и ключи у Персонала. Персонал убирал, готовил еду, мыл посуду, покупал нам одежду, стирал ее и мыл нас. У нас была одна обязанность — быть. Быть предметом этой полезной работы. Я потом думал: жизнь в интернате немногим отличается от жизни в тюрьме. Ко всему привыкаешь. Когда живешь в интернате, потихоньку начинаешь верить, что так и должно быть. Потому что не знаешь, что у тебя есть права, не знаешь, что есть другой мир, не знаешь, что есть что-то лучшее. Не знаешь, что ты человек». Зачем нужны инвалиды? Может быть, затем, чтобы помочь нам жить по-человечески? Для этого у них есть особые возможности: понимать и чувствовать, утешать и благословлять, творить и работать. К чему приводит желание классифицировать, тестировать, делить и разделять людей? Оглянемся на прошлый, такой недавний век. В начале его были придуманы тесты интеллекта для разделения детей на умных и глупых. Потом стали тестировать иммигрантов, дабы отбраковывать малополезных. Потом приняли законы об ограничении въезда в «развитые» страны людей из «неразвитых» стран. Термином «окончательное решение» пользовались не только нацисты, но и члены Национальной ассоциации благотворительных обществ Америки, говоря о необходимости стерилизации инвалидов. Генрих Гиммлер в 1939 году начал убийства десятков тысяч умственно отсталых немцев, а в 1943-м он писал: «Если 10 тысяч русских женщин умрут от изнеможения на земляных работах, меня будет интересовать лишь вопрос о том, закончен ли противотанковый ров, нужный Германии, или нет… Мы, немцы, единственная нация на земле, умеющая хорошо обращаться с животными, будем хорошо обращаться и с этими человеческими скотами». Разделение людей на более и менее полезных, более и менее ценных для общества никогда не останавливается на середине дороги. Желание найти границу между «человеком» и «недочеловеком» приводит к тому, что большинство людей на земле попадает в категорию ненужных. Сегодня мы прячем умственно отсталых детей за железные решетки интернатов, завтра наши собственные здоровые дети сдадут нас, старых и беспомощных, туда же. Мы не хотим поделиться с инвалидами доходами, не предлагаем перераспределить бюджет, добавить немного денег и разрушить эти крепости зла, построив на их месте дома для людей. Сколько детей, взрослых и стариков было измучено и мучается сейчас в бесчеловечных условиях интернатов на благо нам, для того, чтобы нам с вами досталось на кусок хлеба, на глоток воды больше! Лезет нам этот кусок в горло только потому, что мы закрываем глаза и затыкаем уши. Сами становимся инвалидами, глухими и слепыми к страданиям своих ближних. Один епископ писал в 1941 году министру юстиции Германии: «Автобусы приезжают в Гадамар несколько раз в неделю с большим числом этих жертв (умственно отсталых и психически больных немцев. — Е.В.). Дети знают эти машины и говорят: ‘Вот едут вагоны-убийцы». Жители видят дым из труб, и ветер доносит до них запах горящих людей. Последствием практикуемых здесь принципов стало то, что дети, ссорясь, говорят друг другу: «Ты болен, тебя бросят в печь в Гадамаре'». Зачем нужен инвалид? А зачем нужны мы? Статья была опубликована в журнале "Нева" №6 за 2003 год. На сайте "Особый дом" публикуется с разрешения автора. |
Как нас найти
Телефон: +7 (812) 320 06 43
Факс: +7 (812) 320 06 43
home@osdom.org.ru
Пн - Пт 10.00 - 18.00
Copyright 2023. Все права защищены.
ОСОБЫЙ ДОМ — Сопровождаемое проживание людей с ограниченными возможностями в России